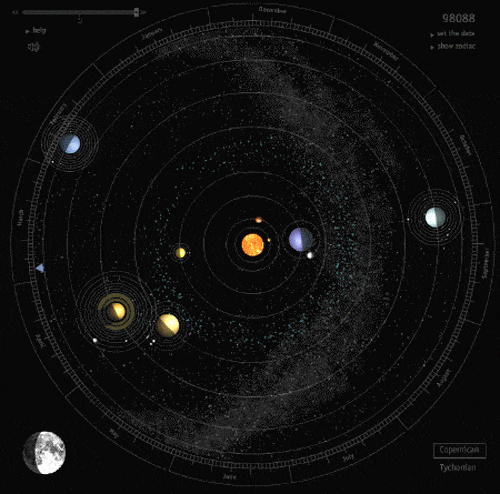В семье «Детей врагов народа» разговоров не говорят. Лет до тридцати, я не знал, что мамина мама была расстреляна «За участие в дворянском заговоре». Не знал, что мама двенадцатилетним ребенком была отправлена в детские лагеря-тюрьмы. Не было этого периода в представлении о маме. Разговор возник, только когда документ поступил, что и первая справка о реабилитации была враньем. Никаких «двадцати лет без права переписки» не было Расстреляли бабушку на третий день после заседания Тройки. По плану изведения «врагов народа». В Тридцать Седьмом.
Взрослым человеком я узнал, что отец отца был орденоносцем Первой Мировой, имел Георгиевский крест. Гордый был. Награду получил за то, что орудие на поле боя отремонтировал. Отказался вступать в колхоз. Этого хватило, чтобы вся семья отца — 6 детей(!) была сослана в Красноярские болота.
И вроде, вполне мирные времена, на которые выпало мое , не дали родителям развязать язык.
О том, что отец свободно перемножал в уме многозначные числа, я тоже не знал. Повода не было узнать: «Суп соленым был».
Огорчен я был в детстве, что работает отец в скучном заводоуправлении, а не в ревущих огнем, цехах металлургического комбината. И работа — никому не похвастаешься: Главный Бухгалтер. Да уж если отец – Главный в бухгалтерии, почему в кабинете у него «Феликс», а у сотрудниц, которые сидели в просторном зале, на столах стояли гигантские грохочущие счетные машины.
— А зачем мне? – спокойно ответил отец. — Я и так могу.
Как он может, я узнал только лет через десять. Явился домой гордым инженером-электриком. Помню, что потребовалось рассчитать какую-то инженерию и я взял в руки логарифмическую линейку.
Отец спокойно дождался, пока я перемещал движки, после чего поправил.
— Если шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят разделить на шестнадцать, получится четыре тысячи двести восемьдесят.
— Ну, ты, батя, даешь… — Я отодвинул логарифмическую линейку. — Ты скажи, это сколько знаков ты в уме можешь?
— Кто бы его знал,- ответил отец. — Бухгалтерия укладывалась. Однажды,- усмехнулся он,- даже жизнь уложилась: под Сталинградом дело было. Паулюса уже взяли. Девяносто тысяч, живыми ушли из котла. Но сколько на поле полегло – это просто страх. Ночью, еду, послали за обмундированием. Часть готовили к наступлению. Слышу, звук странный от саней. «Тпру!» спичками чиркаю…
Тут отец закурил, помолчал.
— Склонился. А на меня мертвец смотрит: полозья саней по лицу немца скользят.
Воспоминание было настолько страшным, что отца передернула судорога.
— Вмерзли. Поле мертвецов. Может, складывали своих, да потом снегом занесло, хрен их знает. Доехали мы до пункта, где в поле свалены полушубки, — горы целые. Валенки: попарно связаны. Сарай, где еще чего только не лежало. Дверь отворена. Стол у входа. За столом полковник — интендант. И бедолага-старшина учет ведет, руки над керосиновой лампой греет. Накинули попоны на лошадей. Пара грузовиков, моторы не глушат. Меня трясет. Может от холода, а может и жуть эта, как полозья режут лицо, не идет из памяти. Стоим мы в дверях — человек двадцать — тридцать.
Полковник заглядывает через плечо старшины, команды отдает, кому чего грузить. А самое, можно сказать нелепое во всем – что счет этому обмундированию надо вести. Видел я, как война списывает. Можно сказать, в ноль. А учет ведется. Мало того, что ведется, так еще и к стенке в случае чего поставить могли.
Я хоть сам в валенках и полушубок добротный был, чую, что к утру при такой работе окочурюсь. Из старшины счетовод был херовый. И счеты у него на столе, а перемножить не может. Со счетами, это же хоть пяти, хоть шестизначные перемножай и дели. Тут всего-то валенки на батальон, да тушонки с галетами на пару взводов. Записал и поехал солдат в часть отогреваться! Тяжко, видать грамота старшине давалась. А с полковника этого интенданта и вовсе брать было нечего: старик, совсем, как я тогда думал: лет сорок или пятьдесят.
Стоим, сбились в кучу, приплясываем, грыземся, понятное дело, кто первее.
А я, как цифры слышу, считаю. Еще с гражданской работы – я мальчонкой бухгалтером в сельхозартели работал, привычка сложилась. И вот кособочит старшина этот бедолага. То тут ошибется то там. Не идут колонки. Одна ведомость, другая… Называет число старшина, и не совпадает счет с ведомостью полковника. Кипятится интендант.
Принимаются сызнова цифры сводить. И не выдержал я. То ли бес в ребро толкнул, то ли замерзнуть до смерти не хотелось, короче, говорю: «Товарищ полковник, триста шестьдесят четыре по продуктовой ведомости и шестьсот двадцать два по первой колонке вон там.
Приплясываю, рукавицами хлопаю, сопли успеваю смахивать.
Посмотрел на меня полковник тяжелым взглядом поверх очков. Ничего не сказал. Когда проверили еще раз, глянул на меня: А тут сколько?
— Восемьсот сорок, товарищ полковник.
— Ты откуда прыткий такой? Фамилия!
— Помощник командира пулеметного взвода, младший лейтенант Александр Шабалин – прикладываю варежку к шапке.
— Иди ка сюда младший лейтенант. Садись. Считай, давай.
И тут только понял я, что не удастся мне даже в своей очереди загрузиться.
Так оно и получилось: отправился я в часть последним. Зато быстрее это у нас со старшиной получилось: он стал бегать к штабелям, а я взялся за ведомости. Скажу честно, как руку на счеты положил, не поверишь, сердце заиграло.
Приехал в часть, разгрузился, едва до спальника добрался: зуб на зуб не попадает. А утром еще темень над землянкой, буржуйка еле дышит, толкает капитан:
— Ты чего там натворил, твою мать?
— Кто натворил? Что натворил? Где это: «там»? – не могу прийти в себя.
— Звонок из штаба. Требуют явиться. С вещами!
Расторопный полковник оказался. Поступил я в распоряжение интендантской службы.
— Ты же из госпиталя? До освидетельствования медслужбы тут поработаешь. У нас же курорт – сам видел. А если честно, то запарка у нас страшная: наступления просто так не бывает. Его, лейтенант, готовят. А о передовой не скучай. Еще успеешь. — Молвил полковник и похлопал мня по плечу.
А часть моя ушла на передовую. Никого из своих я больше не увидел.